Финицкий
Михаил Евстафьевич
Михаил Евстафьевич
(ок. 1705-после 1787)
Украинец по национальности, он получил образование в Киевской духовной академии, а затем преподавал в Харьковской духовной семинарии. В июне 1735 года его пригласили в Вятскую духовную семинарию, где он сначала преподавал грамматику, а позже — пиитику, риторику и диалектику. С 1740 по 1744 год Финицкий возглавлял семинарию, продолжая традиции ее основателя, Лаврентия Горки, и укрепляя гуманистические принципы обучения.
Финицкий был человеком широких знаний и талантов. Он не только преподавал, но и сочинял стихи, писал проповеди, которые произносил с кафедры. Его ученость и успехи учеников вызывали восхищение даже у вятского епископа Варлаама, который хвалил Финицкого в письмах к своему другу Феофану Прокоповичу.
С января 1745 года Финицкий занял должность «управителя» (воеводы) в городах Орлов и Чердынь, где помогал обращать в христианство местные народы. Вернувшись в Вятку, он активно участвовал в укреплении города и дорог, особенно во время пугачевского восстания.
К концу жизни Финицкий, потерявший зрение из-за старости и трудов, жил в Вятке на попечении своего сына Стефана. Он оставил после себя рукописный учебник по поэтике под названием «Idea artis poёseos» («Учебник по искусству поэзии»), который хранится в рукописном отделе библиотеки имени Герцена. В этом труде, помимо теоретических положений, содержатся эпиграммы на вятское общество и поздравительные стихи, например, посвящения Лаврентию Горке и епископу Вениамину Сахновскому. Его стихи, хоть и наивные по форме, отражают демократические взгляды автора. Например, в одной из эпиграмм он высмеивает скупость богачей:
Сами не сопут, гостя презирают,
Ни священнику дают ради неба,
Ни богу свечка, ни черту потреба,
Молвишь, что «нету», а есть, слава Богу!
С лихвы богатство себе собираешь,
А кто владети им будет, не знаешь!
Финицкий также известен своими переводами. Он одним из первых в России переводил отрывки из «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо, причем делал это с польского текста Петра Кохановского. Его переводы считаются одними из первых удачных попыток передать итальянскую октаву на русском языке, что предвосхитило почти на целое столетие появление октав В. А. Жуковского, которые принято считать первыми в русской поэзии. Кроме того, Финицкий переводил «Энеиду» Вергилия и «Фасты» Овидия, что свидетельствует о его глубоком интересе к античной литературе.
Творчество Финицкого, хотя и малоизученное, представляет собой важный этап в развитии русской литературы и перевода XVIII века. Его труды и стихи, сохранившиеся в рукописях, продолжают привлекать внимание исследователей, открывая новые грани таланта этого незаурядного человека.
Финицкий был человеком широких знаний и талантов. Он не только преподавал, но и сочинял стихи, писал проповеди, которые произносил с кафедры. Его ученость и успехи учеников вызывали восхищение даже у вятского епископа Варлаама, который хвалил Финицкого в письмах к своему другу Феофану Прокоповичу.
С января 1745 года Финицкий занял должность «управителя» (воеводы) в городах Орлов и Чердынь, где помогал обращать в христианство местные народы. Вернувшись в Вятку, он активно участвовал в укреплении города и дорог, особенно во время пугачевского восстания.
К концу жизни Финицкий, потерявший зрение из-за старости и трудов, жил в Вятке на попечении своего сына Стефана. Он оставил после себя рукописный учебник по поэтике под названием «Idea artis poёseos» («Учебник по искусству поэзии»), который хранится в рукописном отделе библиотеки имени Герцена. В этом труде, помимо теоретических положений, содержатся эпиграммы на вятское общество и поздравительные стихи, например, посвящения Лаврентию Горке и епископу Вениамину Сахновскому. Его стихи, хоть и наивные по форме, отражают демократические взгляды автора. Например, в одной из эпиграмм он высмеивает скупость богачей:
Сами не сопут, гостя презирают,
Ни священнику дают ради неба,
Ни богу свечка, ни черту потреба,
Молвишь, что «нету», а есть, слава Богу!
С лихвы богатство себе собираешь,
А кто владети им будет, не знаешь!
Финицкий также известен своими переводами. Он одним из первых в России переводил отрывки из «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо, причем делал это с польского текста Петра Кохановского. Его переводы считаются одними из первых удачных попыток передать итальянскую октаву на русском языке, что предвосхитило почти на целое столетие появление октав В. А. Жуковского, которые принято считать первыми в русской поэзии. Кроме того, Финицкий переводил «Энеиду» Вергилия и «Фасты» Овидия, что свидетельствует о его глубоком интересе к античной литературе.
Творчество Финицкого, хотя и малоизученное, представляет собой важный этап в развитии русской литературы и перевода XVIII века. Его труды и стихи, сохранившиеся в рукописях, продолжают привлекать внимание исследователей, открывая новые грани таланта этого незаурядного человека.
Литература о М. Е. Финицком
-
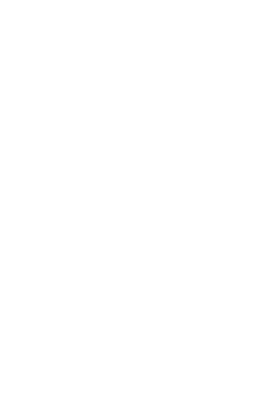 Изергина, М. Е. Финицкий / Н. П. Изергина. — Текст : непосредственный // Писатели в Вятке : литературно-краеведческие очерки / Н. П. Изергина . — Киров : Волго-Вятское кн. изд-во, Кировское отд., 1979. — С. 10—11.
Изергина, М. Е. Финицкий / Н. П. Изергина. — Текст : непосредственный // Писатели в Вятке : литературно-краеведческие очерки / Н. П. Изергина . — Киров : Волго-Вятское кн. изд-во, Кировское отд., 1979. — С. 10—11. -
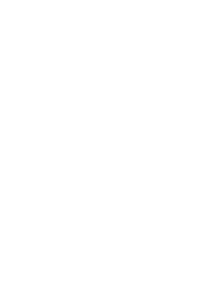 Поздеев В. А. От Трифона Вятского до Ермила Кострова / В. А. Поздеев. — Текст : непосредственный // Энциклопедия земли Вятской : Откуда мы родом? : в 10 т. — [Киров] : Обл. писательская орг., 1995 — (Киров : ГИПП "Вятка"). — т. 2 : Литература. — С. 19—21.
Поздеев В. А. От Трифона Вятского до Ермила Кострова / В. А. Поздеев. — Текст : непосредственный // Энциклопедия земли Вятской : Откуда мы родом? : в 10 т. — [Киров] : Обл. писательская орг., 1995 — (Киров : ГИПП "Вятка"). — т. 2 : Литература. — С. 19—21. -
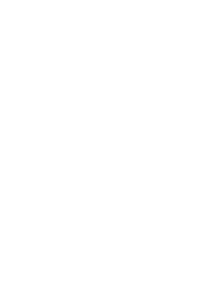 Финицкий Михаил Евстафьевич. — Текст : непосредственный // Энциклопедия земли Вятской : Откуда мы родом? : в 10 томах. — [Киров] : Обл. писательская орг., 1996 — (Киров : ГИПП "Вятка"). — т. 6 : Знатные люди. — С. 463—464.
Финицкий Михаил Евстафьевич. — Текст : непосредственный // Энциклопедия земли Вятской : Откуда мы родом? : в 10 томах. — [Киров] : Обл. писательская орг., 1996 — (Киров : ГИПП "Вятка"). — т. 6 : Знатные люди. — С. 463—464.
